«Труды и дни», 1912, № 4-5.
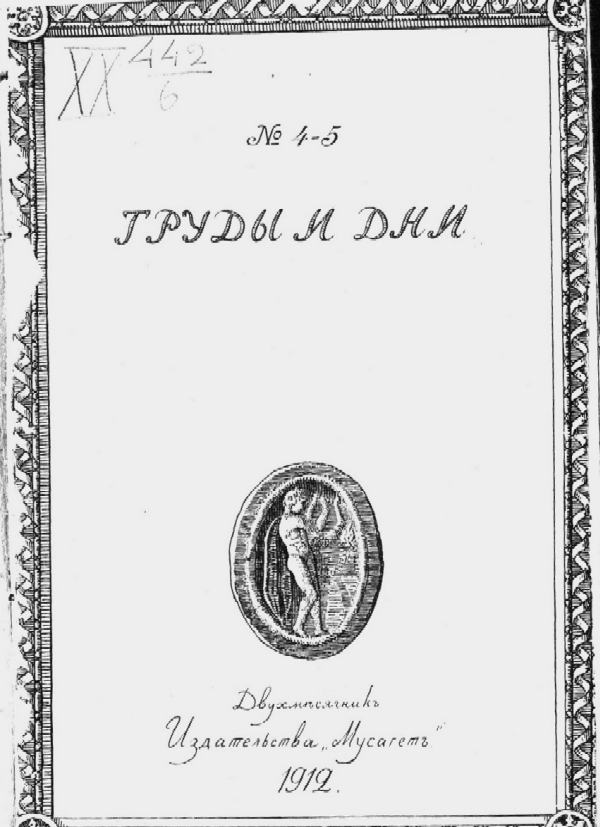
С. В. Рахманинов.
(Музыкально-психологический этюд).
«Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает:
неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить?»
Псалом Асафа.
«...се, гряду скоро; держи, чтоб имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».
Откр. св. Иоан. III, 11.
Всякое трактование музыкального произведения в терминах философских и даже богословских - должно оставаться недоказуемым. Тогда как искусства изобразительное и словесное предпосылают своему, более общему, смыслу - смысл частный, запечатленный в слове, либо определяемый словом (тема, фабула, образ), музыка ни в теме, ни в плане своем совершенно не зависит от слова; а образы ее обладают той степенью текучести, при которой они становятся как бы живородящимися, процессуальными. Лишенный, таким образом, навязчивой помощи слова, всякий суд над музыкальным произведением, поскольку выходит он за пределы профессионального и эстетски-эмоционального толкования, должен быть совершенно произвольным. Есть, конечно, границы, нащупанные долголетним опытом, которые верно и для всех одинаково непреложно отмежевывают разные роды музыки, хотя бы, например, светскую и церковную, друг от друга. Такому отмежевыванью помогает, отчасти, легализация музыкальных форм, т.е. приноровление той или иной музыки к наиболее подходящей для нее форме, так что, например, оратория и какой-нибудь оперный речитатив уже сами, в заданности своей, говорят о полной своей разнородности. Разнице по форме (связанной с практическим вопросом о предназначении музыки) соответствует и выработанная принудительность известных музыкальных способов, приемов, средств (хотя бы лады или тональности); но все это лишь до известной степени. И не взирая на эти, в опыте найденные и подтверждаемые границы, нет «рациональных» оснований, по которым мы могли бы решать вопрос о религиозном и философском качестве данной музыки.
Не найду и я никаких рациональных оснований для тех мыслей, которые собираюсь здесь высказать. Читатель может принять или не принять эти мысли, может иметь свои собственные, обратные моим, но отвергать их ему было бы так же невозможно, как и мне стараться их доказать.
*
Музыка Рахманинова - явление настолько значительное, что сама вынуждает иметь о ней мнение. Но именно мнения-то о ней и не высказывается. Ее разбирают генетически, по-школьному; принято с наивной поспешностью и даже с каким-то внутренним облегчением, точно снятием с себя ответственности, связывать ее (в обычных классификациях) с музыкой Чайковского. Встречаются иногда попытки рассматривать ее под классовым углом зрения («интеллигентство»,«барство» etc.), имеющем именно у нас в России свой, часто предательский и неверный, смысл. И в конце концов мы знаем о ней мало, почти ничего. Она вовсе не таинственна тою шумливой и предупреждающей о себе таинственностью, которая, словно девочка в жмурках, нарочно вскрикивает и суется под ноги, чтоб ее скорее «поймали». В ней нет ничего взрывчатого; ничего, специфически-новаторского. Она очень обыкновенна на первый взгляд. И то, что она слишком не с нами, слишком сама по себе, своя, - даже в этой своей обыкновенности, - делает ее для внимательного немного страшной, для небрежного безопасной. Иным приходит в голову, что и знать-то о ней трудно, именно потому, что она так сознательно-обыкновенна...
Во всяком случае она не переживается без остатка, со скользкой легкостью, с которой пропускает душа чрез себя все, лишенное плотности. В ней есть какая-то драгоценная внутренняя угловатость, твердость, сжатость, застревающая в ушах слушателя; и эта облатка внешней обыкновенности и гладкости начинает казаться не такой уж простой, как думалось раньше: не смягчает ли она целебную горечь того, что так бережно, так заботливо утаено в ней?
Люди, очень много думающие все об одном и том же, приобретают особенную, иногда тяжелую, пристальность взгляда. У музыки Рахманинова есть эта пристальность, ложащаяся на слушателя странной, на первый взгляд необъяснимой и беспокойной тяжестью. Те, кто не принимают ее в себя, принимают ее н а себя, ощущают ее вес, ее давление; и тогда действие этой музыки, не заискивающей у слушателя, становится почти неприятным. Ей совершенно нельзя «предаваться», - как блаженному опьянению, в котором мы сглаживаем и расплавляем свои шероховатости; она не разжижает нас, и это кажется нам, привыкшим «вливать в музыку свои душевные нечистоты» и тем как бы очищаться при ее помощи, - это кажется нам почти предательством. Мы уходим, унося впечатление какой-то упругости, с которой мы соприкасались, не соединясь, и которая вызвала в нас странное сознание нашей собственной непроницаемости, съеженности. Тайный голос говорить нам, что мы недовольны, и требует отчета в недовольстве; но мы избегаем отчета, как бы: предчувствуя, что он выйдет неожиданно обвинительным, заставит нас принять ответственность, которой мы страшимся, и припомнить обязательства, о которых мы надеемся возможно дольше не вспоминать. И взамен суждения о музыке Рахманинова, появляется либо общая фраза о пессимистических ее тенденциях (обычный способ взваливания с больной головы на здоровую), либо усиленные комплименты, либо усиленное ненавистничество, которое звучит так же неловко, как и комплименты.
Кстати, на ненавистничестве, с каким многие наши музыкальные критики отбрасываются от Рахманинова, следовало бы серьезно остановиться. В нем есть что-то подозрительное, - слишком истерическое, слишком теряющее хладнокровие. Так могут вспылить люди от наступленья на мозоль, от удара по нерву: люди, в физиологии своей задетые. Думаю, что тут замешивается именно физиологическая задетость, быть может не сознанная, но тем ярче выраженная. И не является ли она многозначительным показателем того, что с этой «обыкновенной» музыкой дело вовсе уж не так обыкновенно? Иначе с чего бы заживо взволновываться, стулья ломать, точно чувствуешь тайный намек, лично для тебя оскорбительный?
Бесстрастного взгляда на музыку Рахманинова нет. Это не плохо. Но важно (и очень важно), чтоб страстный взгляд на нее сделался вполне сознательным, зрячим. А до сих пор не было и этого: вкруг нее, направо и налево, и в положительную и в отрицательную сторону расходятся лишь волны темного пристрастия.
*
Чтоб читателю стали вполне понятными мысли, которыми я хочу тут поделиться с ним, я принуждена буду пойти вверх, по линии моих впечатлений, - к границам их. Как бы ни были интимны и непередаваемы эти личные впечатления, границы их до известной степени связаны если не с общими музыкальными принципами, то хоть со вспомогательными схемами, - и знакомство с этими схемами прояснит и внутренний ход впечатлений.
Современная музыка (и особенно ее дурные апологеты) ввела в моду такие слова, как «космическое», «мировое», «супра-натуральное»; в этих расплывчатых масштабах устанавливаются музыкальные темы, сюда втягивают, с мучительными усилиями и натяжкой, всякие душевные настроения и устремления. Силятся подогреть их до подлинного сверхчеловеческого пафоса - и приводят музыку к бессильной «экстатической» хрипоте. Такие неуклюжие посягательства на «запредельное» показывают как в сущности мало думают нынче о природе самой музыки. Поглощенные идеей о каком-то, высосанном из пальца, супра-натурализме, музыканты превращают свое искусство в сомнительное средство для «объятий необъятного», а еще вернее - для разъятий уже объединенного. Между тем именно музыку не следовало бы искушать в этом направлении.
Прежде всего надобно согласиться, что музыка, по природе своей, представляет наименее человеческое из искусств. Это, конечно, не мешает ей вмещать полноту собственно-человеческого, - но только как вид, как species - отнюдь не как нечто, в ней преобладающее.
У гностиков раннего средневековья музыка имеет свои «чины», подобные чинам тварным, человеческим и ангельским, она нисходит вниз и восходит вверх от человека. Музыка в профессии своей, как чистое искусство, считалась в средние века смертным грехом (музыканты допускались к Причастию лишь два раза в год, да и то после усиленного покаяния и отречения). Это потому, что, по толкованию церковных иерархов, музыка несла в себе нечто, лежащее ниже человеческой природы, и музыканты, вызывая к жизни это темное, отжитое, звериное, заставляли ее (т.е. природу человеческую) возвращаться вспять, утрачивать образ и подобие Божие... Восхитительные страницы у Кампанеллы, посвященные «музыке сфер», - этому междупланетному танцу, - посвященные тоске пространства по заполняемости, как бы говорят, между строк, о том, что музыка родилась из мистического horror'а vacui.—Наконец, у Шопенгауэра окончательно формулируется мысль о природе музыки: она, в противовес всем другим искусствам, отображающим мировую волю косвенно (через отображение идей), запечатлевает в себе самою волю, минуя идеи.
И вот на этом-то междупланетном языке, на языке, доступном зверю, понятном для ребенка, которым, быть может, переговариваются меж собою поющие звезды (древние астрономы думали, что у каждой звезды есть, кроме своего ритма, еще и своя мелодия); - вот на этом то языке современные композиторы взывают к стихиям, бесконечно превышающим способности их представления и даже восприятия. Точно дети, играющие с порохом. А между тем искусство музыки (именно «искусство», а не она сама) начинается с того момента, когда человек устанавливает себя в центре этой мировой зыбкости, - берет музыку эгоцентрически, пытается ею выразить свое, для того, чтоб воистину иметь на нее уши.
Учитывая все, сейчас происходящее, приходишь к печальному выводу, что нынешняя музыка все более и более откалывается от человека. И те вихри, которые завивают в ней любители супра-натуральных ощущений, в конце концов подбирают под себя собранное и целостное искусство XVIII—XIX вв., рискуя поглотить его или рассеять.
Может быть, направление современной музыки является не «революцией», как наивно думают музыкальные новаторы, а лишь величайшей косностью, - инерцией, ведущей свое начало от толчка Шопенгауэра и Вагнера... Как бы то ни было, соблазн обезличения, обесчеловечения изведан нынешней музыкой до конца. Результатом его, кроме «интернационализма и экзотичности», отмеченных Вольфингом, явились еще пантеизм и мистичность, граничащая с истерикой. Вот на последних двух признаках, особенно для меня многозначительных, я и остановлюсь несколько подробней.
*
Там, где имена и названия бессильны, где ощущение человечности, как таковой, слишком неустойчиво и ненадежно, - возникает пантеизм, религия не божеская и не человеческая, а тварная. Возникает не от остроты чувства Бога, а от слабости чувства человечности, - это нужно особенно помнить.
Крещение теизмом в сознательной душе подобно рыцарскому обряду; Бог, как в старину сюзерен, берет из рук человека шпагу (имя человеческое и все то, что делает человека личностью), ударяет ею по плечу его, как бы для того, чтобы сызнова запечатлеть ее на нем, и потом возвращает эту шпагу человеку; отныне свой жизненный путь он должен пройти, не разлучаясь с нею. Мгновенье мистического обезличенья в теизме есть лишь ступень перехода, состоянье не самоцельное, а средственное. Совсем обратно в пантеизме; там эта ступень делается конечною целью, и человеческая психология вся окрашивается ею: «отрекись, человек!» делается лозунгом всей жизни. Отречение от собственной человечности идет параллельно с принятием всего тварного. Происходит колоссальная противобожеская ассимиляция, в которой хаос поглощает вылупившуюся из него искорку личной жизни: процесс, обратный основному замыслу творения. И вот этой центробежной ассимиляции, гордо именуемой пантеизмом, ничто так не играет в руку, как современная музыка. Не ведая того, она тесно связана со всеми нынешними анти-христианскими и тем, если угодно, анти-человеческими (ведь и Христос любил свое земное имя: Сын Человеческий) движениями, например, с пышным пустоцветом теософии, с мистическим анархизмом и с прочей супра-натуральностью.
Музыка сама по себе является драгоценным внутренним цементом, который как бы спаивает все «чины» мирозданья, она соприсутствовала в акте творения от первого дня до последнего и была, быть может, тем «благо», которое произносил Творец в конце каждого дня. В качестве цемента она может и должна быть сверхиндивидуальной, космической, забирая и вверх и вниз от человека. Но искус этой космичности слишком значителен, чтоб можно было ее усугублять. От «Тристана» Вагнера (см. Вольфинга «Модернизм и Музыка» и статью его в «Золотом Руне» о «Тристане»), идет линия усугубления; Шопенгауэр как бы напутствовал ее заранее, создав ей возвышенное оправданье. И благодаря этому современная музыка вместо цемента служит средством для распыления, тем более опасным, что оно влилось в русло эпохи, самой по себе носящей все следы болезненной центробежности. Искусства, перекликаясь, заражают друг друга, и мы дышим в воздухе, наполненном бациллами тлена и распада.
У нас, в России, достаточно вникнуть в творчество высоко-даровитого Скрябина, чтоб увидеть обесчеловечение современной музыки. Напрасно силится пантеизм его надеть маску индивидуального, напрасно пишет он <…> с большой буквы, — именно большая буква тут, у нижних пределов человечьего, и знаменует собою начало звериное, безликое.
Глубина распыления, в которую ввергает себя современное музыкальное сладострастие, походит на кошмарную бесовскую катастрофу,«и вошли бесы в стадо свиней, и сверглось стадо с крутизны в море»... Человек, присутствующий при этом свержении или захваченный им, чувствует необходимость отстоять себя, ухватиться за что-нибудь, лечь поперек дороги катящемуся в хаос человеко-сознанию, чтобы хоть телом своим удержать его; он выкрикивает, полный отчаяния, совершенно новый вопль, - вопль глубоко праведный в эту минуту, каким бы неожиданным, непонятным кощунством ни прозвучал он в ушах) прирожденного артиста. Вот этот вопль: не надо музыки...* У нас он вырвался однажды из уст истинного поэта, пронизанного лучами музыки (см. статью «Против музыки» Андрея Белого в «Весах»), хотя в нем как, впрочем, и во всяком крике прозвучало нечто болезненно-субъективное, а потому и неверное.
Но крик противящегося «бесовскому свержению» был заглушен грохотом обвала, да и мало кто обратил на него внимание, - ведь прозвучал он со стороны. Он мог, кроме того, помочь лишь людям, а не самой музыке. И вот теперь мы присутствуем при зрелище столь же величественном, сколь незаметном, при зрелище, весь смысл которого уяснится лишь на отдалении, в перспективных стеклышках будущего, - присутствуем при борьбе за искусство музыки, происходящее в самой музыке: Рахманинов и Николай Метнер ведут эту борьбу, каждый за свой страх, своими средствами и в одиночку, — при чем у первого борьба принимает характер душераздирающего трагизма, потому что в нее вложено нечто большее, чем только боязнь за музыку. У Рахманинова личность безостаточно перелилась в музыку, и кризис последней сделался кризисом первой...
Таким образом в творчестве Рахманинова уже не одна музыка борется за свое искусство, но и личность человеческая борется и отстаивает самое себя, - требуя для себя человеческих, прежде всего человеческих масштабов.
*) Этот крик, конечно, является лишь психологическим рецептом, и горе тому, кто, будучи по природе музыкально атрофирован «скопцом от чрева матерняго рожденным»), осмелится поднять свою руку на стихию музыкального, сделать психологический рецепт чем-то в роде папской буллы, отвергающей музыку, как таковую!
*
Вот наконец, слово, которым объясняется тайное сопротивление, испытываемое современным слушателем перед музыкой Рахманинова: она ложится «поперек дороги», не дает слушателю разрядить в ней себя, свои дневные возбуждения; подносит ему, взамен тайной пантеистической разнузданности, нечто упругое, сжатое и целомудренное, собирающееся в комок от прикосновенья, твердотелое, сознательно-обыкновенное и неизменно глубоко-человеческое.
Вместо безоглядного зазыванья в хаос, вместо съедающего душу упоенья небытием, упоенья отказом от всего человеческого и связанных с ним преимуществ и обязательств (космическая ассимиляция «Тристана» Вагнера), она сдержанно, с усилием, с напряженностью, почти незаметной и артистически сглаженной, - стоит на своем месте противясь вихрям и цепко удерживая «разбежавшегося» слушателя. «Все позволено, мы все там будем...» истерически взывает современная музыка, будя безумные инстинкты слушателя и точно нащупывая наугад, в душевной его клавиатуре, те невозможные, отчаянные, мучительные созвучия, которые вдруг выкинули бы душу его из достигнутого человекообразия. «Нет, я не с вами, я хочу быть человечной, я не хочу совлечься человеческого», упорно говорит музыка Рахманинова, сопротивляясь беснующемуся вокруг хаосу. И пока другие, более человеческие, искусства, как живопись и поэзия, - заражаются несвойственною им «безликостью», пропитываются теософическими и пан-хаотическими беснованиями, Рахманинов на «междупланетном» языке пытается отстоять человечность. Такое отстаиванье, в сущности говоря, не в духе музыки, оно ей непривычно, - и отсюда какая-то неприветливость и пристальность, с которой встречает слушателя изящное искусство Рахманинова.
Прежде, чем идти дальше, мне хочется сказать несколько слов о непонятном заблуждении наших критиков, упорно желающих видеть в Рахманинове продолжателя линии Чайковского. Я протестую против этого заблуждения отнюдь не из какой-нибудь личной «несимпатии» к Чайковскому (которую нынче так модно высказывать и которую я считаю, помимо дурного тона, еще и странным национальным бесчувствием и неблагодарностью!). Протест мой обусловлен тою глубочайшей разницей в целях, которую обнаруживают своим творчеством оба композитора. Есть, конечно, (и должно быть) между обоими известное расовое сходство, подобное семейному сходству лиц, вся близость которых исчерпывается родством по крови. Но до сих пор, ведь, такое «кровное» сходство никого в заблуждение не вводило и позволяло видеть и понимать индивидуальное богатство каждого таланта...
Творчество Чайковского менее всего собирательно. В своей несознанной певчей стихийности, оно «прыгает» от предмета к предмету, ведет музыкальную линию по впечатлениям; подчас глубокое, подчас кропотливо-детальное, оно поспешно разрешает во вне все психологические узлы, которыми его обогащает жизнь. Вот этого «анализированья» (в приемах письма), этой неоседлости духа, который кочует с места на место и милостью Божией поет о своих настроениях, совершенно нет у Рахманинова. Вместо «разрешения» — связыванье в музыке тех узлов, которые распустились, ослабли в душе; вместо аналитических приемов — попытки синтезировать, оперированье музыкальными схемами и, наконец, дух систематичности, присущий Рахманинову, как мало кому из славянских композиторов. Та степень сознательности и памятования о себе, которая поражает в его музыке, делает ее совершенно отличной от творчества Чайковского. Всякие сопоставления их основываются на очевидном невнимании, или, быть может, на нежелании стать внимательным, что волей-неволей заставило бы спуститься от периферии данного музыкального явления к его центру.
Первое, что с отрадой ощущаешь у Рахманинова, это ясное расчленение меж человеком и космосом и, полное внутренней значительности, отвержение всякого пантеизма.
Установление собственно - человеческого элемента характерно для Рахманинова и в темах, и при выборе музыкальных средств. Он избегает, прежде всего, всякой экстатичности, всякой душевной наркотики, утончающей границу меж личностью и безликим; у него нет ни безымянного темного мистицизма, ни пафоса потусторонности. Он весь — на этой, земной, стороне, в земном обличьи, с человеческой болью, с человеческими радостями и опасениями. Темы его либо задушевны, либо трагичны, но и в том, и в другом бесхитростны. Юношей пишет он оперу на сюжет, быть может, наиболее человеческий (вернее, задающийся вопросом о человеке) из всех русских сюжетов: на «Цыган» Пушкина, причем переименовывает их в «Алеко», централизуя мысль поэмы на главном ее лице. Характерно, что психология толпы, движение масс, свободный (не индивидуальный, а родовой, и притом стадный) анархизм цыганства, — противопоставляющиеся в поэме личному анархизму индивидуума, переданы в музыке наименее удачно. Вообще следует отметить какую-то физическую знаменательную неспособность Рахманинова схватывать движение масс. Его мелодия всегда как-то одиноко и однообразно-человечна; и хоры, при всей их внешней красоте и умелости, вызывают образ не толпы, а одного лица. Это особенно бросается в глаза в Литургии, но о ней после. Большинство тем лишено всякой преднамеренной программности; сверхчеловеческих подзаголовков нет нигде. Текст романсов повсюду (несмотря на разнообразие и случайность его) сохраняет эти элементы чистой человечности. Мистические прозрения Тютчева, лирика Фета — где она как-бы разливается в чувстве природы— вовсе не останавливают Рахманинова; зато самые ничтожные стихи, хотя бы например Галиной и Ратгауза (если не ошибаюсь), поскольку выражена в них беспримесная «человечность», находят себе вдумчивый и тонкий отклик в его музыке. Интересно, что и у Тютчева, и у Фета выбирает он стихи, не для них характерные, а вмещающиеся в те масштабы, из которых он сознательно не выводит музыку ни вверх ни вниз...
То же самое и при выборе музыкальных средств. Известно тяготение современных композиторов к диссонансу. Путем диссонанса (вернее: путем злоупотребления им) творится современное пантеистическое озверение. У Рахманинова резкий диссонанс исключение, и поэтому действие он производит как раз обратное, чем у современных «новаторов». Тогда как Скрябин, например, пользуется диссонансом для разрыва человечности, для преступления границ индивидуального сознания, — Рахманинов вставляет диссонанс лишь для того, чтоб резче оттенить именно человеческий элемент, утверждая его лицом к лицу с мировой гармонией. Такой прием несомненно, художественен и психологически вполне правилен, если вспомнить, что у Тютчева человек на фоне гармонической вселенной, — изображен «мыслящим тростником» («и ропщет мыслящий тростник»), т.е. видом космическим, но уже мыслящим, а потому и ропщущим, диссонирующим с космосом, поскольку он себя утверждает отдельно от него. Так же и в замечательном стихотворении Блока «Голоса скрипок», — человечий голос врывается в «мировой оркестр» «смычком визгливым»... Рискованное созвучие в Литургии (напр., святый бессмертный) звучит воистину от лица человеческого перед лицом Бога: именно в нем как нельзя более, проскальзывает природный (и осознанный) теизм композитора, не покидающий его ни на минуту, так что даже в молитвенном песнопении, когда душа должна расплываться в Боге, озаренная Им, — он все еще видит человека и Бога друг против друга, видит не слияние их, но взаимноотношение. Важно, поэтому, отметить, что Литургия Рахманинова, как молитвословие, для церковных служб, — мало подходяща. В ней есть моменты высоко - благодатные (например «Милость мира»...), когда Бог сходит к человеку; есть моменты трагического напряжения («свят, свят, свят Бог…), где человек вытягивается к Богу,— но это опять же моменты взаимоотношения Отца и твари, а не их совокупности. До той безликой святости, которая именовалась у гностиков «музыкой чина ангельского», Литургия Рахманинова не доросла. Я вижу в этом ее глубокое достоинство, говорящее за внутреннюю цельность творчества Рахманинова. Не даром потерей индивидуальности добивались древние русские иконописцы достижения святости; церковное творчество — и в музыке, и в живописи — безымянно: лучшее из него не носит имени творца. Личность становится забвенною, расплывается, утеривается на высших ступеньках церковного искусства. Рахманинов не взошел на эти ступени и не мог взойти просто потому, что этим он отрекся бы от дела всей своей жизни. Масштаб, взятый им для своей музыки, ни на вершок не поднялся и тут; личность была удержана, человекоощущение сохранено — ценою отказа от безликого «древляго» благочестия... Литургия Рахманинова — не «божественное» произведение; повторяю, вряд ли она когда-нибудь органически войдет в православный храм. Но зато она — высший, глубочайший и прекраснейший образчик теизма, который когда-либо существовал в русской музыке...
*
Особенно важным в настоящее время является вопрос о ритме; и притом не о частных функциях ритма в музыке и в поэзии (все более занимающих нынче внимание профессионалов), но вообще о природе его, так тесно связанной с динамикой всего мира.
Думаю, что установление первичности ритма («вначале был ритм») в корне ошибочно и является результатом слишком торопливого отношения к вопросу. А так как вопрос этот первостепенно важен, я остановлюсь на нем несколько дольше.
Начало всякого творческого акта в статике — идея, Слово; в динамике — усилие *). Всякое усилие является по существу а-ритмическим,
*) Знаменательна первая глава Евангелия от Іоанна: постепенно разворачиваясь из Слова (из абсолютной самозамкнутой идеи в статическом Его аспекте), мир возникает лишь благодаря тому, что третьим, динамическим аспектом Слова является любовь (т.-е. усилие, акт сдвига) в той мере, в какой Бог (второй и связующий аспект Слова) есть Любовь: «В начале бе Слово и Слово бе у Бога, и Слово бе Бог». Отсюда из неподвижности и усилия, родился мир, а за ним возник ритм. Тому, кого не отпугнут тонкости спекулятивной догматики, легко будет создать аналогию меж этим актом божественного творения и моментом всякого человеческого начинанья.
возникновение его именно и заключается в сдвиге, в моменте крайней внутренней сжатости, которая не оставляет меж «частицами движения» (если можно так выразиться) никакого пустого пространства и в первую минуту, благодаря своей упругости, производит впечатление неподвижности. Первый момент усилия, следовательно, исключает ритм; но уже последующий ход усилия, его кривая линия, поддающаяся математическому исчислению, и есть не иное что, как постепенное разжижение сдвига, приноровленье его к окружающему,— переход усилия в ритм . Таким образом, ритм есть жидкий вид усилия; и основным свойством его является именно вторичность. Отсюда происходят такие общеизвестные истины, как «всякое начало — трудно»; добавлю от себя: всякое начало непонятно и неприемлемо (особенно в истории, в психологии общественных переворотов, в зарождении идей и форм искусства) до тех пор, пока оно не перешло в «жидкую стадию», т.е. до тех пор, пока люди не смогут уловить ритм его и этим приблизиться к его смыслу.
Возвращаясь к современному положению вещей (в искусстве и в жизни), мы видим, что кризис нашего «переходного» (как его любят называть) времени особенно ярко выражается в утрате ритма. Не будет голословным сказать, что мы утеряли ритм не только в искусстве (это особенно заметно в живописи и в музыке), но и в общественности, и в быту. Быть может, неподвижное усилие недавних лет, еще не разжиженное до ритма, висит над нами, обещая нашему будущему новые пути и формы... Но мы-то сами даже не смеем пока его предугадывать; под нами вырваны мостки, и мы неуклюже машем руками, никак не попадая в линию общего движения. В живописи утрата ритма характеризуется сознательными нарушеньями перспективных законов, отказом от мелодики линий (которой осуществляется собственно-рисунок, жизненный и имеющий за собою образ) и превознесением, небывалого до сих пор, геометрического приема, который я назвала бы «гармонизацией» линий,— у кубистов и тому подобных. В музыке по отношению к ритму устанавливается сплошная бутада; и вот этим стихийным надругательством над святыней мирового порядка музыкальный пантеизм (также и всякий, поставивший точку над своим и) окончательно обнажает свой звериный лик, которого отныне ни за каким «экстазом» не спрячешь.
Ритм - срединное состояние мира, алфавит божественного языка, лежащий меж альфой и омегой. Казалось бы, именно пантеистическое миросозерцание и должно строить себя в этих его пределах. Так оно и было, например, у Спинозы, в его равномерной, как кольца змеи, Этике; но не мешает тут же заметить, что спинозизм, как только Шеллинг попытался поставить над ним свою, в высокой степени возвышенную, точку, тотчас же рухнул в небытие *). Современная музыка, подобно философии Шеллинга, захотела понаставить точек над i — и прорвала ритм, единственную свою защиту и опору. За гранями ритма для обесчеловечной и обезличенной музыки началась полная пустота. Корабль, везомый капитаном Спинозы, врезался в голое Nihil. А пассажиры тешатся надеждами на супра-натуральность, не предвидя никакой опасности...
Именно в эту минуту искуса нужно в музыке мудрое воздержание, и оно явилось у Рахманинова тем более ценным, что за ним ощущается напряжение всей личности композитора подобное страшно натянутой струне: кажется, будто исключительная ритмичность его и есть эта закономерная, беспрерывная дрожь, которая сопровождает крайнюю душевную напряженность...
Как-то я видела уличную сценку, надолго врезавшуюся мне в память: лошадь, тащившая воз, вдруг остановилась, выбившись из сил и стоит посреди улицы, а извозчик и покрикивает, и постегивает ее совершенно зря. Должно быть, прерван был ритм движенья или усилие дошло до предела, но только заставить лошадь сдвинуть воз дальше по прямой, с того самого места, на котором она остановилась, не было никакой возможности. Я ждала, что будет дальше. И вот возчик вдруг заворотил лошадь вбок, дернув ее за уздечку, — и она покорно описала кривую линию, обвезла воз кругом себя и свершив, значит, целый ряд лишних, на первый взгляд непроизводительных, движений, потащила воз дальше, по нужному направлению. Тут тот же закон движенья. что и в прыжке «с разбега»; — лошадь и возчик выполнили его инстинктивно, мало сознавая, что они делают.
Разбег, движенье вбок, круговая линия — все это ухищренья ритма, которому нужно сохранить самого себя, для продолженья пути... Рахманинов, гениально ритмичный по природе, буквально спасается ритмом, связывает и сочленяет им все разобщенное, что поднимается у него из темных низин души. Необычайная сдержанность музыки его отнюдь не исчерпывается одною лишь высокой артистичностью композитора; дело
*) См. трагедию первой половины творчества Шеллинга, завершившейся длительным молчанием и, наконец, поздней и неудачной попыткой философа вернуться к теизму, — у Ноffmаnn'а: «Вaadеr іn sеіnеm Vегhaltniss zu Нegel und Schelling».
обстоит гораздо серьезнее: лично переживая кризис, охвативший современное искусство, борясь с собственными стихиями и вихрями, постоянно имея перед глазами границы человеческого и нечеловеческого, он цепляется за «телеологическую» закономерность ритма, не рискуя отходить от него ни на шаг. Этим, и только этим, объясняются изредка попадающиеся у Рахманинова пустые страницы, как бы «отсутствующие», — которые ничем не заслуживали своего запечатленья. Это отнюдь не импровизационные шалости, не игра, не случайная небрежность артиста, забывшего на виду свой черновик, — а вполне сознательная уступка ритму, — ряд круговращательных, как будто лишних, движений, для того, чтоб «свезти с места» мелодию. Рахманинов готов даже зачастую ослабить впечатленье этой мелодии, только бы не нарушить ритма, не прорваться сквозь него. И это придает его музыке особенную верность и надежность, драгоценную во все времена, а сейчас исключительно нужную и целебную. Слушая любую из его вещей можно заранее быть уверенным в том, что она не выдаст тебя, не опрокинет в хаос, не развяжет в душе никаких узелков, — напротив, стянет и насторожит их своею текучей упругостью. Во всем, даже в салонных пьесах, например в фортепьянном Роlichinellе'е или же Меlodie, с ослепительной, хрустящей и прозрачной свежестью их интервалов, — завоевывает слушателя прежде всего ритм, не столько причудливостью, сколь гибкостью и беспримерной живучестью.
*
Центральным моментом творчества Рахманинова справедливо считается 2-й концерт для фортепиано с оркестром (ор. 18). В ней яснее всего проступили характерные черты его музыки.
Не о внешнем совершенстве, которого не смеют отрицать самые ярые ненавистники, говорю я здесь: о нем уже достаточно говорено. Я имею в виду, главным образом, редкую собранность и целомудренность, которые во 2-м концерте достигают кульминационного пункта и уже, не боясь за себя, победительные и победившие, приобретают (в мелодии) простор и широкость, почти несравненную. Достаточно вникнуть в начальные страницы 1-й части концерта, чтоб схватить эту широкость главной мелодии, понять ее тайную, как бы стыдливую, торжественность и порадоваться вместе с нею празднику, о котором она повествует... Интимная, грациозная, доверчивая и вместе с тем застенчивая мелодия 2-ой части опять как бы суживает музыкальную тему, вводит ее, — разлившуюся-было, — в назначенное русло и раскрывает вглубь то, что первая часть раскрывала в ширь. Можно без конца слушать и без конца изумляться волшебству этой короткой, как улыбка, мелодии, неуловимо меняющейся, прогоняемой сквозь строй секвенций, выворачиваемой до последней складки, раскрывающейся постепенно, как цветочные лепестки, до конца 2-ой части царящей над музыкой, чтоб не оборваться, а как бы довершиться: сняться тихонько с места, как вздох. Точно кто-то, с железной логикой, решает алгебраическое уравнение, шаг за шагом суживает границы его возможностей, загоняет, наконец, в угол, где оно само снимает себя с очереди, превращаясь в простое равенство. Эта часть концерта может считаться музыкальным перлом, бесподобным по отделке и глубоко-трогательным по содержанию.
Весь вообще 2-ой концерт — какой-то осиянный. Радость его похожа на грусть, так много в ней задумчивости и кротости... Важно отметить, что творчество Рахманинова зачастую носит характер размышления о человеке (размышления, но никогда «рассудочности»!), при чем эти meditationes редко достигают высшей, уже созерцательной, ступеньки, на которой преодолеваются элементы трагизма и раздвоенности, и мелодия бывает высветлена внутренним сияньем самонахождения и самоутверждения. 2-ой концерт именно и запечатлевает момент такого самонахождения; он скорее созерцателен, чем задумчив, и более образен, чем все остальные вещи Рахманинова. Главное, за что он всегда будет дорог и памятен религиозному слушателю, — это горячее, трепещущее сквозь ритм, неустанное «благодареньё», которое так от души возсылает в нем нашедший себя человек, — и миру, и Богу. Осиянность этой вещи и радостное ее самодовление больше славят Бога, чем во славу Его написанная и так трагически, почти бунтарски, звучащая Литургия...
*
Вот еще что существенно: Рахманинов, сознательно или нет, не любит пейзажей, картин, образов, музыкальных пространств, не одушевленных присутствием человека. Он не умеет (или не хочет) только «живописать», так что, например, его чудесная фантазия для 2-х фортепиано (ор. 5) не дает ни одного зрительного видения, не преломив его предварительно сквозь сердце и настроение человека: и выходит фантазия не «воображаемая» (не живописание «моря», «ночи и любви», чьих-то слез» и светлого разрешения их в Пасхальном Благовещении), а лично-переживаемая, строго-психологическая. И опять не картина, не образ, а meditatio.
То же самое и в мелких вещах, хотя бы в интересных Моmе musicaux, где это тем характерней, что ведь в них зафиксирован ряд «моментов», могших хотя бы случайно оказаться «зрительными» и все-таки таковыми не оказавшихся. Центр тяжести их опять темные и светлые миги человеческой души.
Интересно, что даже там, где Рахманинов поневоле должен удовлетвориться ролью «живо-писателя», например, в сцене с золотом («Скупой рыцарь»), где музыка искрится, рассыпается, звякает, как пересыпаемые старым бароном червонцы, — он употребляет вдохновенный психологический прием: раздвигает рамки простой изобразительности и заставляет ее (т.е. копировку явления) служить средством для передачи мании, т.е. глубочайшего феномена человеческой воли. Он достигает этого внезапными, полными смысла и жизни, паузами, похожими на «захват дыхания» и знакомыми лишь тому, кто заглядывал в самую глубь страсти.
Замечу, кстати, что у нас талантом музыкальной объективации в высокой степени обладает лишь Николай Метнер, — этот пленительный рассказчик в музыке: не даром так любит он название «сказок», «новелл»; и не даром, несмотря на колоссальное богатство его мелодий, почти что «перепроизводство» их (например, в последней сонате), не дающее с первого раза, хотя-бы на бегу внимания, охватить их контуры, несмотря на исключительную трудность усвоения его вещей, — за ними легко следовать: они гипнотически заставляют «ждать продолжения», как в детстве ждешь продолженья сказки, подчас не понимая, подчас не разбираясь, и все-таки удерживая дыхание. —Такова действенная сила «образов»...
Быть может, тут сказывается германизм Метнера, точно так же как неустанное памятование о человеке и «субъективация» внешних явлений у Рахманинова — отличительный признак славянства? Ведь даже симфоническую картину, навеянную Беклином («Остров мертвых») Рахманинов не передал эпически и зрительно, а воспользовался ею, как символом, для введения в душевную «трагедию смерти». Черные зубцы острова, мертвая зыбь моря — переведены в музыке на язык ощущений; мучительное «не хочу», которое раздирает музыку в начале симфонии, и тихое, усмиренное, приплывшее к Острову, стукнувшееся легко и внятно о берег «да будет воля Твоя» — ведь это даже не музыкальные символы, а раскрытие в музыке символов, которые увидел Рахманинов в эпизодической картине Беклина...
Еще несколько слов о том, как отразился на творчестве Рахманинова эрос.
Ни в одном искусстве не предстает пол так обнаженно, как в музыке. В этом еще раз сказывается ее «междупланетность»: подобно тому, как эрос разлит во вселенной, нет и музыки, абсолютно лишенной пола. Но пол носит в музыке родовой, стихийный характер, сверхиндивидуальный — это всегда мелодия Венеры (из Тангейзера), стоокая и сторукая власть, присасывающаяся к душе и ее собою поедающая. Оттого-то современные музыкальные супра-натуралисты так специально-эротичны; в сфере музыки это и легко достижимо, и богато последствиями. Надо ли говорить, это безликий эрос не только не утверждается, но и неослабно отвергается Рахманиновым? Высокое целомудрие музыки его, умеющей быть страстною («холерические» моменты, по терминологии Вольфинга), но никогда не чувственной, никогда не периферически-возбужденной и возбуждающей, достойно той сознательной человечности, которую так праведно отстаивает.
В этом отношении особенно интересна музыка «Франчески да Римини». Самый выбор текста показывает, что композитора влечет к себе проблема очеловеченной любви, — не той сладкой обязанности, которая как-бы представляет собою темное биенье космоса, несущее в самом бытии своем право на себя, а тягчайшего из блаженств, органически сросшегося у человека с моральными соображениями, долгом, внезапной трагедией недозволенности и т. д. Текст Франчески — совершеннейший из эпизодов такой очеловеченной любви; внешняя ткань действия в нем художественно собрана у грани, преступление которой является вместе с тем и «преступлением» в высшем смысле. И вот музыка с неподражаемым мастерством умеет повсюду сохранять именно мотив недозволенности, т. е. нечто такое, что пронизывает стихию любви началом личным, что ставит в центре родового бесформенного томления — человеческое самосознанье. Эрос нигде в опере не утверждает своего самодовлеющего права; с первых изгибов мелодии чувствуется крест, — эта, смертью смерть поправшая, выстрадавшая себя человечность...
....«Быть может тут, в несвободе этой музыки, в ее постоянной внутренней связанности, ущемленности, в ее напоминании о вековых обязательствах — и кроется для меня что-то неприятное, досадное, из-под опеки чего я стремлюсь поскорее уйти?» — так мог бы спросить современный слушатель, привыкший в музыке раздеваться и нырять с головою в ее «всеразрешающее всеуничтожение»... Мог бы спросить, если б только он был честен с самим собою.
Но те, кто видят путь к высшей свободе лишь через добровольное самоограничение, через полное очеловечение, — не могут не пойти навстречу целительной музыке Рахманинова, — тем более мудрой, что ведь она выпустила свои ростки из нашей почвы, из трагического бессилия современности, из ассимиляции, из распада; какая свобода духа в самом акте ее, в сознательном ограничении ею своих масштабов! Мы переживаем время, когда приходится не только не сожалеть о «человеческом, слишком человеческом», но всеми устремлениями души оберегать, призывать и приветствовать «уже человеческое», так трудно бывает выкарабкаться из торжествующего нынче хаоса...
Мужественное искусство Рахманинова с простотою и серьезностью протягивает нам руку помощи. И тот, кто ее раз принял, ответит ей чем-то большим, чем признание и хвала. Он сбережет для нее интимную благодарность, чувство пережитой близости и ту деятельную любовь, которая воздается лишь живому, —любовь, столь же помнящую, сколь и возлагающую надежды.
Мариэтта Шагинян.
